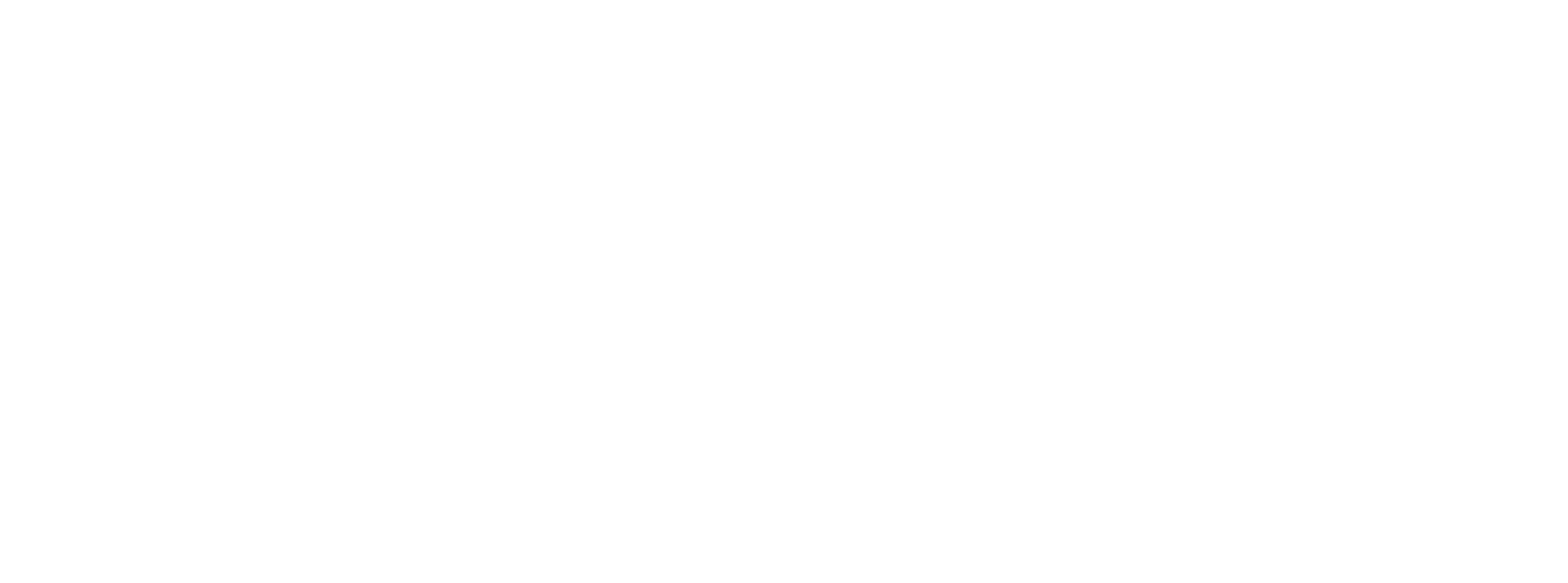Евгений Костылев: К 2050 году Российская Федерация в процессе адаптации к новым глобальным реалиям перейдёт к более гибкой трехуровневой системе государственно-территориального устройства
Евгений Костылев: К 2050 году Российская Федерация в процессе адаптации к новым глобальным реалиям перейдёт к более гибкой трехуровневой системе государственно-территориального устройства
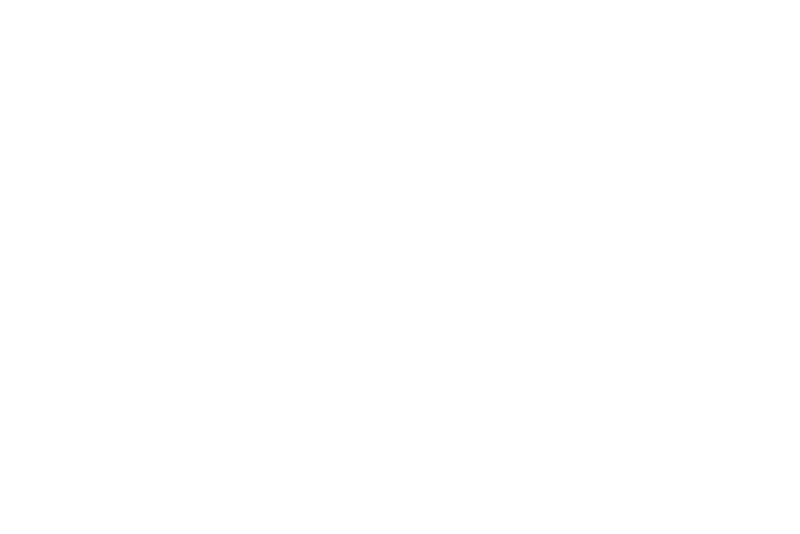
Данный умозрительный эксперимент исходит из тех рисков территориальной деструкции Российской Федерации, которые обозначены в предыдущем прогноза, представленного на ближайшее двадцатипятилетние. Они, напомню, связаны с сокращением государственной идентичности в условиях расширения глобальных сетевых коммуникаций и повышения уровня социокультурного космополитизма населения.
Между тем. Россия обладает уникальным потенциалом управления обширными географическими пространствами и способна не только дать оптимальный ответ на обозначенные риски, но и использовать тренды сетевой глобализации для экстерриториальной экспансии. Но для того, чтобы задействовать заложенный потенциал придётся пересмотреть некоторые табуированные представления о том, что такое государственность, принципы федеративного устройства, субъектность федерации, функционирующие институции с ними связанные и т.д.
Прежде всего, такое переосмысление позволило бы отказаться от устаревшего принципа универсализма федеративного устройства, где каждая территориальная единица, независимо от того, где она расположена, обладает одинаковым набором институций во взаимоотношениях с федеральным центром. В рамках границ федерации, особенно для близкорасположенных к центру территорий такой подход разумен, но для отдалённых регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, существующих в иных азиатских реалиях, он уже менее эффективен и невозможен для управления вынесенными эксклавными территориями. Калининградская область с её особым положением российского «фронтира» на Западе представляет собой естественное исключение.
Более того, на отдалённых территориях уже сейчас не достаёт присутствия федерального центра, что ещё в 90-е годы привело к откровенному сепаратизму. С учётом перспектив расширения глобальных коммуникаций в сочетании с ростом космополитных настроений такой дефицит влияния центральной власти чреват критически опасной для суверенитета территориальной деструкцией.
Главным ответом на такие вызовы мог бы быть отказ от устаревшего принципа универсальности федеративного устройства в пользу большей адаптивности гибридных форм территориального управления. Речь идёт о трёхуровневой федерации, в которой сосуществуют разные типы взаимоотношений регионов с метрополией.
На первом уровне реализуются принципы унитарного управления городами федерального значения, которые станут каркасом пространственного управления. Дело в том, что на каждой территории есть точки притяжения социально мобильной части населения — как правило, это города-миллионники с развитой урбанистической культурой. На Дальнем Востоке к таким городам относятся, к примеру, Владивосток, Хабаровск, в перспективе — Южно-Сахалинск. В Сибири аналогичного типа Красноярск, Новосибирск. На Урале — Екатеринбург, Челябинск и т.д. по всем российским регионам. Прямое административное подчинение этих городов метрополии, особый режим межбюджетных отношений позволят активировать центростремительные настроения социально-активных групп населения, в сознании которых они станут восприниматься как своего рода филиалы, «очаги присутствия» метрополии. Эти города станут узлами в глобальной сети, будучи при этом плотно вшитыми в российскую систему управления.
На втором уровне имплементированы классические принципы федеративного управления — когда государственный суверенитет реализуется через синергию коллективного принятия решений субъектами федерации. То есть в данном случае говорится о том формате взаимоотношений в Российской Федерации, который институциализирован и конституционно оформлен в работе Совета федерации, а также Государственного совета, обладающих определяющими и консультативными функциями в принятии решений в сфере госуправления.
Третий конфедеративный уровень наиболее интересен с позиции экстерриториального расширения географии интересов России. Конфедеративный формат в отличие от федеративного не предполагает образования неких суверенных обязательств. А разграничение компетенций между метрополией и территориями строятся на основе конфедеративного договора. Действующую модель таких взаимоотношений представляет собой Союзное государство России и Белоруссии, существующее без образования суверенитета на основании Союзного договора, заключённого в декабре 1999 года.
Ценность такой модели состоит в том, что данный опыт может быть распространён на взаимоотношения РФ не только с соседними государствами, к числу которых относится сохраняющая свой суверенитет Белоруссия, но и с любым даже с самыми территориально отдалёнными государственными образованиями на нашей планете. Главное, чтобы для этого были проектная целесообразность и суверенное согласие сторон.
Речь идет о создании сети асимметричных конфедеративных союзов с самыми разными партнерами — от стран ЕАЭС и ближнего зарубежья до отдаленных государств, заинтересованных в конкретных проектах. Эти союзы будут основаны не на уступке суверенитета, а на совместном управлении конкретными сферами: обороной, инфраструктурой, цифровыми системами.
В завершении отметим: к 2050 году Россия способна предложить миру новую модель глобализма, альтернативную западноцентриному космополитизму, основанному на устаревших представлениях о ценностном универсализме, — модель суверенной кооперации в сетевом миропорядке. Российская государственность кардинально изменит свою форму, став более сетевой и проектной, что позволит ей, с одной стороны, оставаться влиятельным игроком в условиях кризиса традиционной территориальности, а с другой, сформировать управляемый механизм выхода космополитных настроений в обществе.
Экстерриториальный тренд с мировой политике, обладающий разрушительной природой для государственности в традиционном понимании этого термина, может оказаться крайне полезным для государств, готовых к радикальным трансформациям.
Между тем. Россия обладает уникальным потенциалом управления обширными географическими пространствами и способна не только дать оптимальный ответ на обозначенные риски, но и использовать тренды сетевой глобализации для экстерриториальной экспансии. Но для того, чтобы задействовать заложенный потенциал придётся пересмотреть некоторые табуированные представления о том, что такое государственность, принципы федеративного устройства, субъектность федерации, функционирующие институции с ними связанные и т.д.
Прежде всего, такое переосмысление позволило бы отказаться от устаревшего принципа универсализма федеративного устройства, где каждая территориальная единица, независимо от того, где она расположена, обладает одинаковым набором институций во взаимоотношениях с федеральным центром. В рамках границ федерации, особенно для близкорасположенных к центру территорий такой подход разумен, но для отдалённых регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, существующих в иных азиатских реалиях, он уже менее эффективен и невозможен для управления вынесенными эксклавными территориями. Калининградская область с её особым положением российского «фронтира» на Западе представляет собой естественное исключение.
Более того, на отдалённых территориях уже сейчас не достаёт присутствия федерального центра, что ещё в 90-е годы привело к откровенному сепаратизму. С учётом перспектив расширения глобальных коммуникаций в сочетании с ростом космополитных настроений такой дефицит влияния центральной власти чреват критически опасной для суверенитета территориальной деструкцией.
Главным ответом на такие вызовы мог бы быть отказ от устаревшего принципа универсальности федеративного устройства в пользу большей адаптивности гибридных форм территориального управления. Речь идёт о трёхуровневой федерации, в которой сосуществуют разные типы взаимоотношений регионов с метрополией.
На первом уровне реализуются принципы унитарного управления городами федерального значения, которые станут каркасом пространственного управления. Дело в том, что на каждой территории есть точки притяжения социально мобильной части населения — как правило, это города-миллионники с развитой урбанистической культурой. На Дальнем Востоке к таким городам относятся, к примеру, Владивосток, Хабаровск, в перспективе — Южно-Сахалинск. В Сибири аналогичного типа Красноярск, Новосибирск. На Урале — Екатеринбург, Челябинск и т.д. по всем российским регионам. Прямое административное подчинение этих городов метрополии, особый режим межбюджетных отношений позволят активировать центростремительные настроения социально-активных групп населения, в сознании которых они станут восприниматься как своего рода филиалы, «очаги присутствия» метрополии. Эти города станут узлами в глобальной сети, будучи при этом плотно вшитыми в российскую систему управления.
На втором уровне имплементированы классические принципы федеративного управления — когда государственный суверенитет реализуется через синергию коллективного принятия решений субъектами федерации. То есть в данном случае говорится о том формате взаимоотношений в Российской Федерации, который институциализирован и конституционно оформлен в работе Совета федерации, а также Государственного совета, обладающих определяющими и консультативными функциями в принятии решений в сфере госуправления.
Третий конфедеративный уровень наиболее интересен с позиции экстерриториального расширения географии интересов России. Конфедеративный формат в отличие от федеративного не предполагает образования неких суверенных обязательств. А разграничение компетенций между метрополией и территориями строятся на основе конфедеративного договора. Действующую модель таких взаимоотношений представляет собой Союзное государство России и Белоруссии, существующее без образования суверенитета на основании Союзного договора, заключённого в декабре 1999 года.
Ценность такой модели состоит в том, что данный опыт может быть распространён на взаимоотношения РФ не только с соседними государствами, к числу которых относится сохраняющая свой суверенитет Белоруссия, но и с любым даже с самыми территориально отдалёнными государственными образованиями на нашей планете. Главное, чтобы для этого были проектная целесообразность и суверенное согласие сторон.
Речь идет о создании сети асимметричных конфедеративных союзов с самыми разными партнерами — от стран ЕАЭС и ближнего зарубежья до отдаленных государств, заинтересованных в конкретных проектах. Эти союзы будут основаны не на уступке суверенитета, а на совместном управлении конкретными сферами: обороной, инфраструктурой, цифровыми системами.
В завершении отметим: к 2050 году Россия способна предложить миру новую модель глобализма, альтернативную западноцентриному космополитизму, основанному на устаревших представлениях о ценностном универсализме, — модель суверенной кооперации в сетевом миропорядке. Российская государственность кардинально изменит свою форму, став более сетевой и проектной, что позволит ей, с одной стороны, оставаться влиятельным игроком в условиях кризиса традиционной территориальности, а с другой, сформировать управляемый механизм выхода космополитных настроений в обществе.
Экстерриториальный тренд с мировой политике, обладающий разрушительной природой для государственности в традиционном понимании этого термина, может оказаться крайне полезным для государств, готовых к радикальным трансформациям.
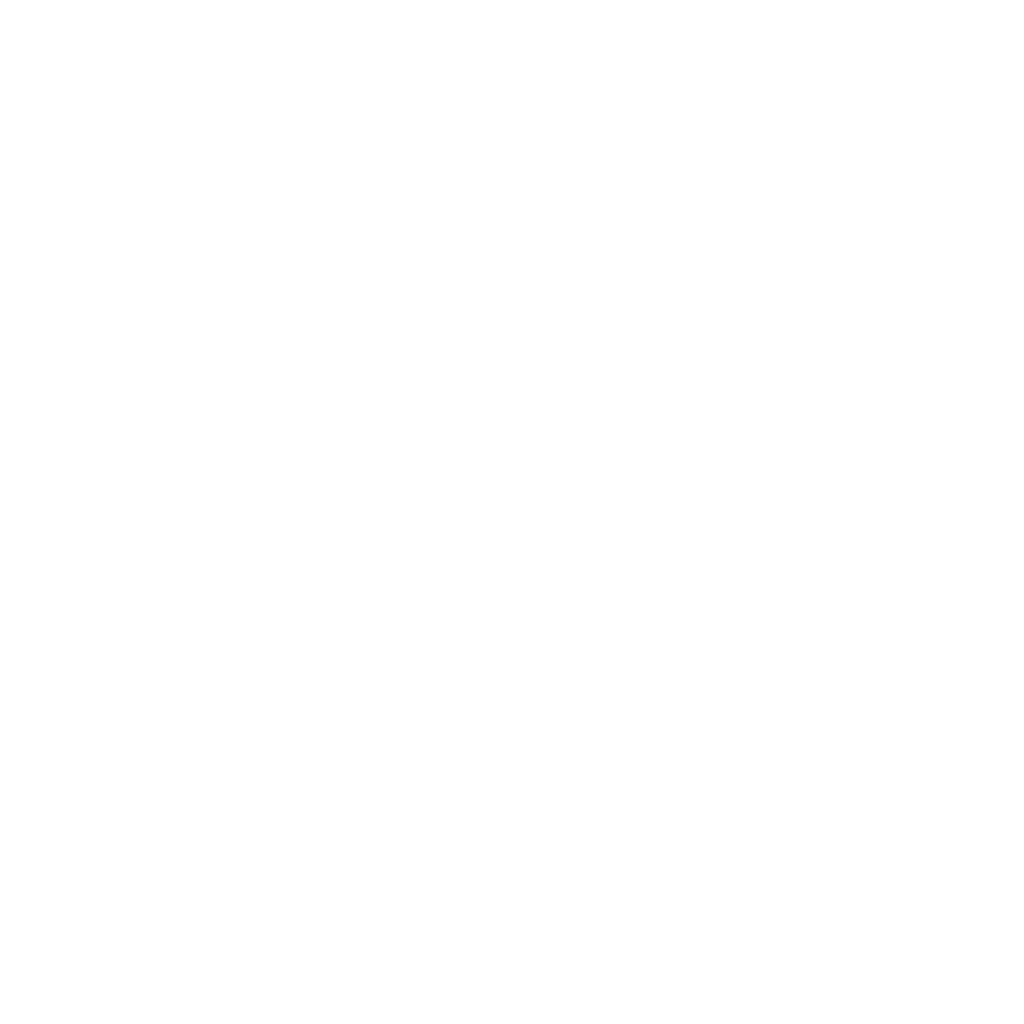
Евгений Костылев
Политолог, кандидат политических наук
Сфера научных интересов: инстинктивная природа власти; парадигмальный кризис представительской демократии и цифровые технологии управления политическим выбором
Профиль эксперта