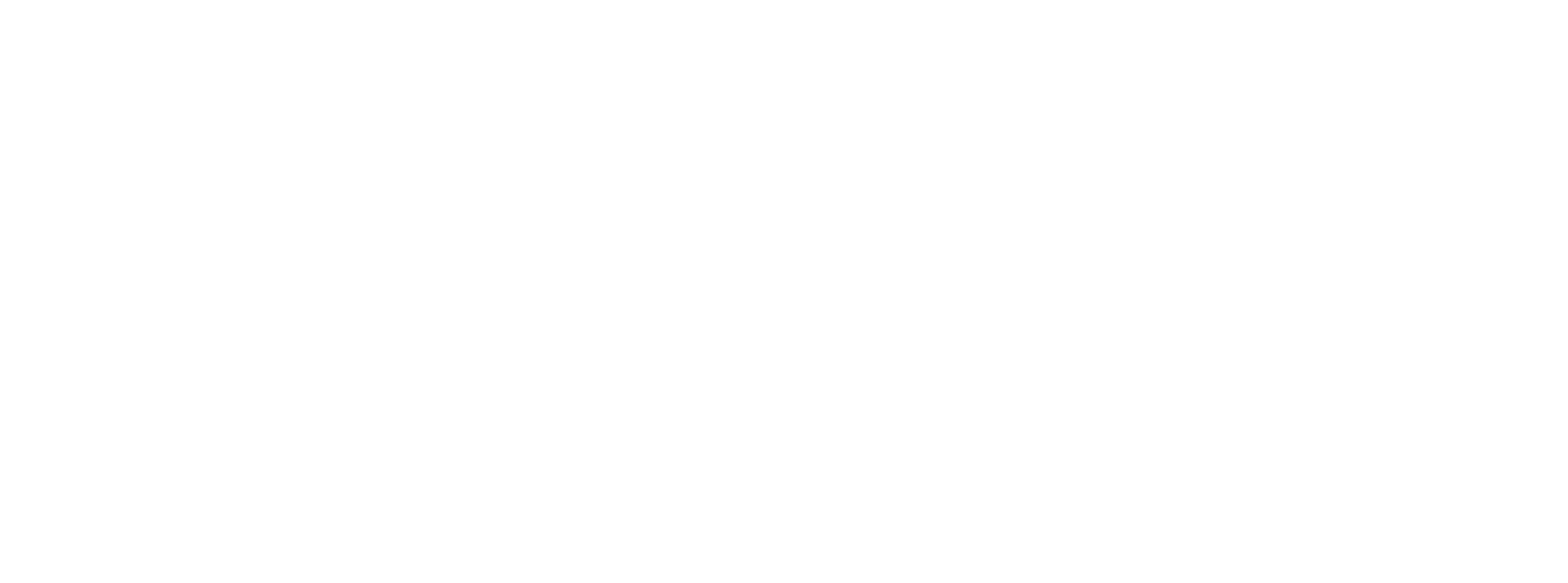Евгений Костылев: К 2050 году категория «территориальность» подвергнется революционной трансформации, а клубный сетевой формат БРИКС станет прототипом будущего мироустройства, став открытой операционной системой управления глобальными проектами
Евгений Костылев: К 2050 году категория «территориальность» подвергнется революционной трансформации, а клубный сетевой формат БРИКС станет прототипом будущего мироустройства, став открытой операционной системой управления глобальными проектами
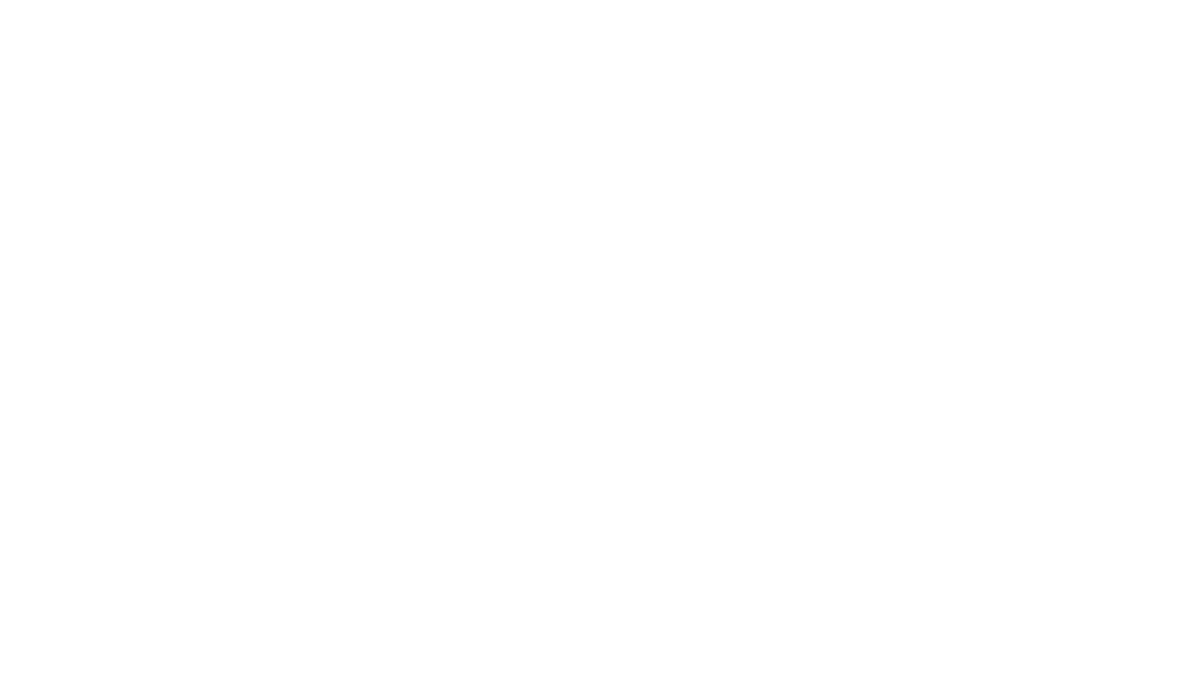
Настоящий умозрительный эксперимент исходит из гипотетического утверждения, согласно которому ревизия категории «территориальность» уже следующее поколение лидеров поставит перед необходимостью экстерриториального распространения географии национальных интересов в любую точку планеты.
В данной гипотезе, объективность и необратимость развития коммуникационных возможностей создаёт новую геополитическую реальность, в которой государственный суверенитет станет определяться степенью субъектной включенности в трансграничные союзы и проекты континентального или планетарного масштабов. Тогда как автаркия, ориентация на пространственно-географическое расположение государства, контакты с соседними странами будут постепенно утрачивать своё значение. Именно в этом будет состоять ревизия категории «территориальность», которая видоизменит содержание феномена государственность, окажет влияние на принципы геополитического позиционирования государств.
В контексте взрывного развития глобальных коммуникационных возможностей традиционные концепции пространственного устройства мира, сформированные в рамках географического детерминизма, в терминах «талассократия» и «теллурократия», подвергаются процессу ускоренной десакрализации и теряют прежнюю эвристическую ценность. Концептуальные конструкции, такие как границы государств, зоны ответственности и сферы влияния, ещё недавно выступавшие аксиоматическими элементами классической школы геополитической мысли, также как и российского евразийства, подвергнутся серьёзной методологической ревизии. Всё более актуальным становится разработка научно-теоретической базы новой версии Геополитика 2.0, учитывающей постепенное разрушение традиционного понимания пространства и устаревание фундаментальных принципов территориальности.
Характерной приметой наступления нового экстерриториальной эпохи в геополитике является свободное объединение государств БРИКС, которое напрасно воспринимают как некий альтернативный коллективному Западу блок. В действительности же можно говорить о качественно новом, недооцененном явлении в мировой политике, несравнимым ни с одним из привычных форматов межгосударственного взаимодействия.
Напомню, БРИКС возник как статистический феномен, обнаруженный британским экономистом Джимом О’Нилом, объединивший в простую совокупность географически несвязанные государства: Бразилию (Лат.Америка), Россия (Европа, Азия), Индия (Азия), Китай (Азия), позднее ЮАР (Африка). Сейчас членами БРИКС являются 10 государств. Но важнее другое: БРИКС представляет собой экстерриториальный клубный формат, который на концептуальном уровне не предполагает каких-либо обязательств для стран-участников, также как и уставных документов, вертикали организационной структуры. Но такая необязывающая специфика объединения не исключает запуск и успешное функционирование горизонтальных институтов развития: ежегодно проводятся саммиты, действует финансовая группа, Новый банк развития (НБР), валютный фонд «Пул условных валютных резервов» и т.д.
Ещё раз подчеркнём, все институты БРИКС действуют на экстерриториальной основе, то есть в нём нет каких-либо географических, социо-культурных или блоковых границ. Это качественно отличает БРИКС от любых объединений условного коллективного Запада, будь то Северо-атлантический блок (НАТО) или альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе (АУКУС, КВАД), обладающих и территориальной ориентацией и очевидной антагонистической нацеленностью. Именно форматы подобные БРИКС более адаптивны в новых реалиях глобальных коммуникаций, вытесняя те объединения, которые ведут к фрагментированности геополитического пространства.
К 2050 году БРИКС как сетевая платформа эволюционирует в нечто большее — в «БРИКС+» — открытую операционную систему для управления глобальными проектами. Страны станут участвовать не в «БРИКС+» целом, а в конкретных его инициативах: например, в евразийском высокоскоростном транспортном коридоре или в международной системе квантовой защищенной связи.
В продолжение темы адаптационных трансформаций в наступающую эпоху экстерриториальной геополитики отметим ещё один не менее важный аспект, связанный с воздействием всеобщего распространения глобальных коммуникаций на целостность общества, способствуя росту космополитных настроений, а в конечном итоге, разрушая субъектную идентичность государства, в тех суверенных границах, в которых они сейчас существуют.
Например, антрополог Луис Марано уже утверждал упразднение каких-либо границ к 2300 году. Есть другие предсказания сроков возникновения единого мирового государства без границ, но если всё-таки не обращаться к такой глубокой перспективе, то важно понимать следующее. Социальный запрос на некие формы космополитизма от поколения к поколению будет необратимо возрастать и на него придётся давать ответ в поисках разумного компромисса между сохранением государственной идентичности и субъектной включённостью в глобальные коммуникации.
Каждое государство окажется перед рисками либо сразу раствориться в глобальных процессах, либо оказаться в глубокой периферии и уже на следующей итерации быть поглощенным теми же процессами. В течение ближайших десятилетий далеко не все государства смогут найти для себя оптимальную формулу ответа на эти риски. Ответ России на подобные угрозы представлен в следующем умозрительном эксперименте, посвящённом трансформации административно-территориального устройства.
В данной гипотезе, объективность и необратимость развития коммуникационных возможностей создаёт новую геополитическую реальность, в которой государственный суверенитет станет определяться степенью субъектной включенности в трансграничные союзы и проекты континентального или планетарного масштабов. Тогда как автаркия, ориентация на пространственно-географическое расположение государства, контакты с соседними странами будут постепенно утрачивать своё значение. Именно в этом будет состоять ревизия категории «территориальность», которая видоизменит содержание феномена государственность, окажет влияние на принципы геополитического позиционирования государств.
В контексте взрывного развития глобальных коммуникационных возможностей традиционные концепции пространственного устройства мира, сформированные в рамках географического детерминизма, в терминах «талассократия» и «теллурократия», подвергаются процессу ускоренной десакрализации и теряют прежнюю эвристическую ценность. Концептуальные конструкции, такие как границы государств, зоны ответственности и сферы влияния, ещё недавно выступавшие аксиоматическими элементами классической школы геополитической мысли, также как и российского евразийства, подвергнутся серьёзной методологической ревизии. Всё более актуальным становится разработка научно-теоретической базы новой версии Геополитика 2.0, учитывающей постепенное разрушение традиционного понимания пространства и устаревание фундаментальных принципов территориальности.
Характерной приметой наступления нового экстерриториальной эпохи в геополитике является свободное объединение государств БРИКС, которое напрасно воспринимают как некий альтернативный коллективному Западу блок. В действительности же можно говорить о качественно новом, недооцененном явлении в мировой политике, несравнимым ни с одним из привычных форматов межгосударственного взаимодействия.
Напомню, БРИКС возник как статистический феномен, обнаруженный британским экономистом Джимом О’Нилом, объединивший в простую совокупность географически несвязанные государства: Бразилию (Лат.Америка), Россия (Европа, Азия), Индия (Азия), Китай (Азия), позднее ЮАР (Африка). Сейчас членами БРИКС являются 10 государств. Но важнее другое: БРИКС представляет собой экстерриториальный клубный формат, который на концептуальном уровне не предполагает каких-либо обязательств для стран-участников, также как и уставных документов, вертикали организационной структуры. Но такая необязывающая специфика объединения не исключает запуск и успешное функционирование горизонтальных институтов развития: ежегодно проводятся саммиты, действует финансовая группа, Новый банк развития (НБР), валютный фонд «Пул условных валютных резервов» и т.д.
Ещё раз подчеркнём, все институты БРИКС действуют на экстерриториальной основе, то есть в нём нет каких-либо географических, социо-культурных или блоковых границ. Это качественно отличает БРИКС от любых объединений условного коллективного Запада, будь то Северо-атлантический блок (НАТО) или альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе (АУКУС, КВАД), обладающих и территориальной ориентацией и очевидной антагонистической нацеленностью. Именно форматы подобные БРИКС более адаптивны в новых реалиях глобальных коммуникаций, вытесняя те объединения, которые ведут к фрагментированности геополитического пространства.
К 2050 году БРИКС как сетевая платформа эволюционирует в нечто большее — в «БРИКС+» — открытую операционную систему для управления глобальными проектами. Страны станут участвовать не в «БРИКС+» целом, а в конкретных его инициативах: например, в евразийском высокоскоростном транспортном коридоре или в международной системе квантовой защищенной связи.
В продолжение темы адаптационных трансформаций в наступающую эпоху экстерриториальной геополитики отметим ещё один не менее важный аспект, связанный с воздействием всеобщего распространения глобальных коммуникаций на целостность общества, способствуя росту космополитных настроений, а в конечном итоге, разрушая субъектную идентичность государства, в тех суверенных границах, в которых они сейчас существуют.
Например, антрополог Луис Марано уже утверждал упразднение каких-либо границ к 2300 году. Есть другие предсказания сроков возникновения единого мирового государства без границ, но если всё-таки не обращаться к такой глубокой перспективе, то важно понимать следующее. Социальный запрос на некие формы космополитизма от поколения к поколению будет необратимо возрастать и на него придётся давать ответ в поисках разумного компромисса между сохранением государственной идентичности и субъектной включённостью в глобальные коммуникации.
Каждое государство окажется перед рисками либо сразу раствориться в глобальных процессах, либо оказаться в глубокой периферии и уже на следующей итерации быть поглощенным теми же процессами. В течение ближайших десятилетий далеко не все государства смогут найти для себя оптимальную формулу ответа на эти риски. Ответ России на подобные угрозы представлен в следующем умозрительном эксперименте, посвящённом трансформации административно-территориального устройства.
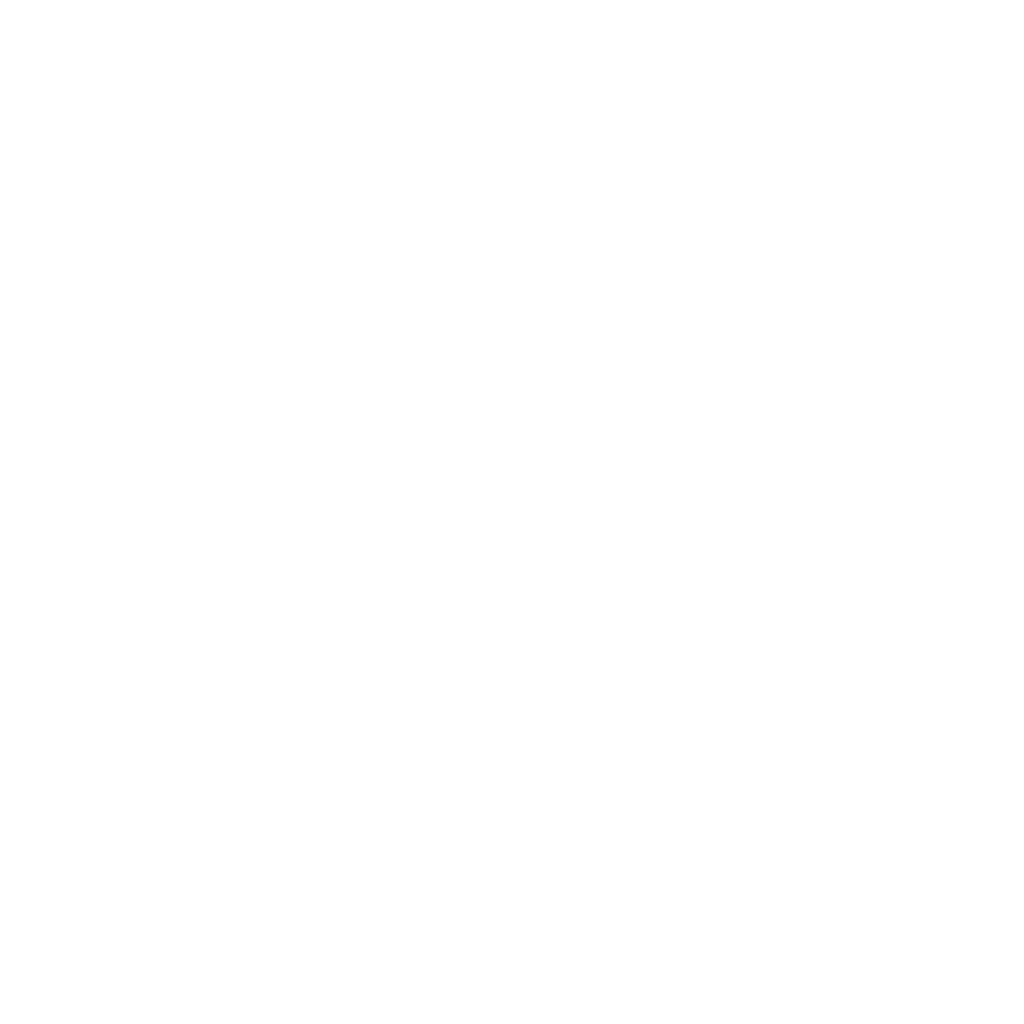
Евгений Костылев
Политолог, кандидат политических наук
Сфера научных интересов: инстинктивная природа власти; парадигмальный кризис представительской демократии и цифровые технологии управления политическим выбором
Профиль эксперта