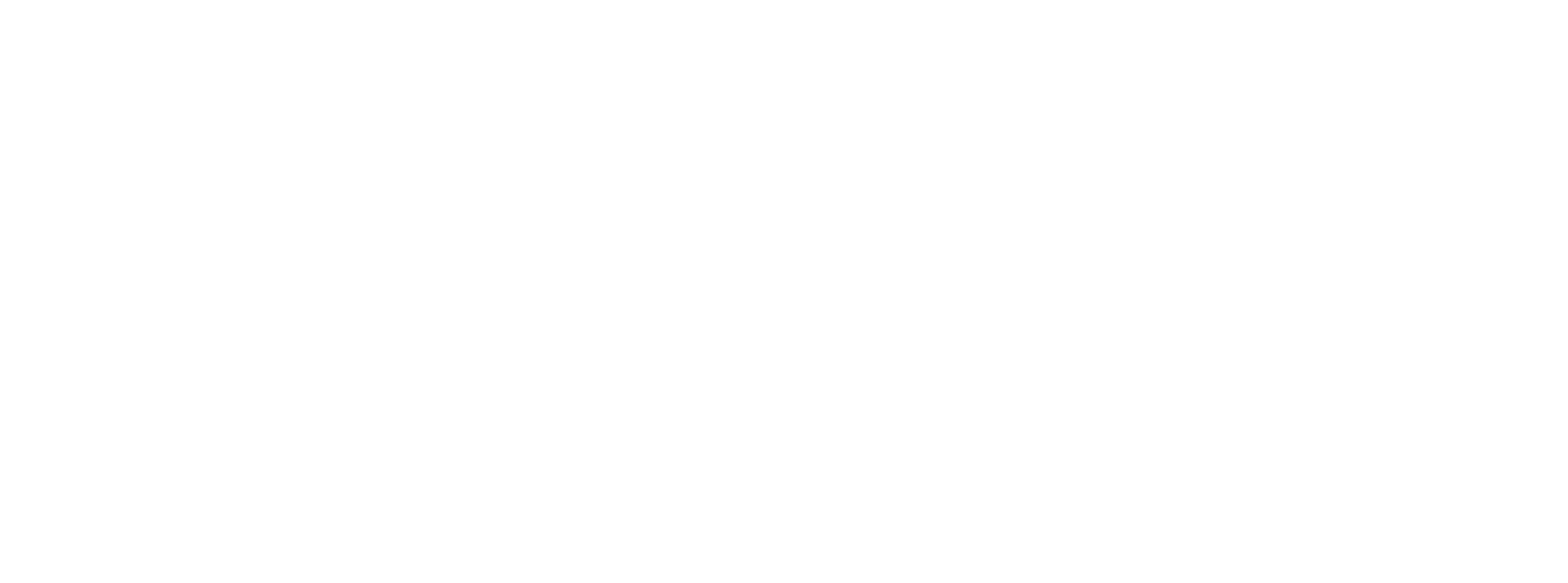Георгий Сапожников - эксперт в области образования: К 2030 году образование в России переломит тренд на утечку мозгов
Георгий Сапожников - эксперт в области образования: К 2030 году образование в России переломит тренд на утечку мозгов
Прогноз от 10.11.2025
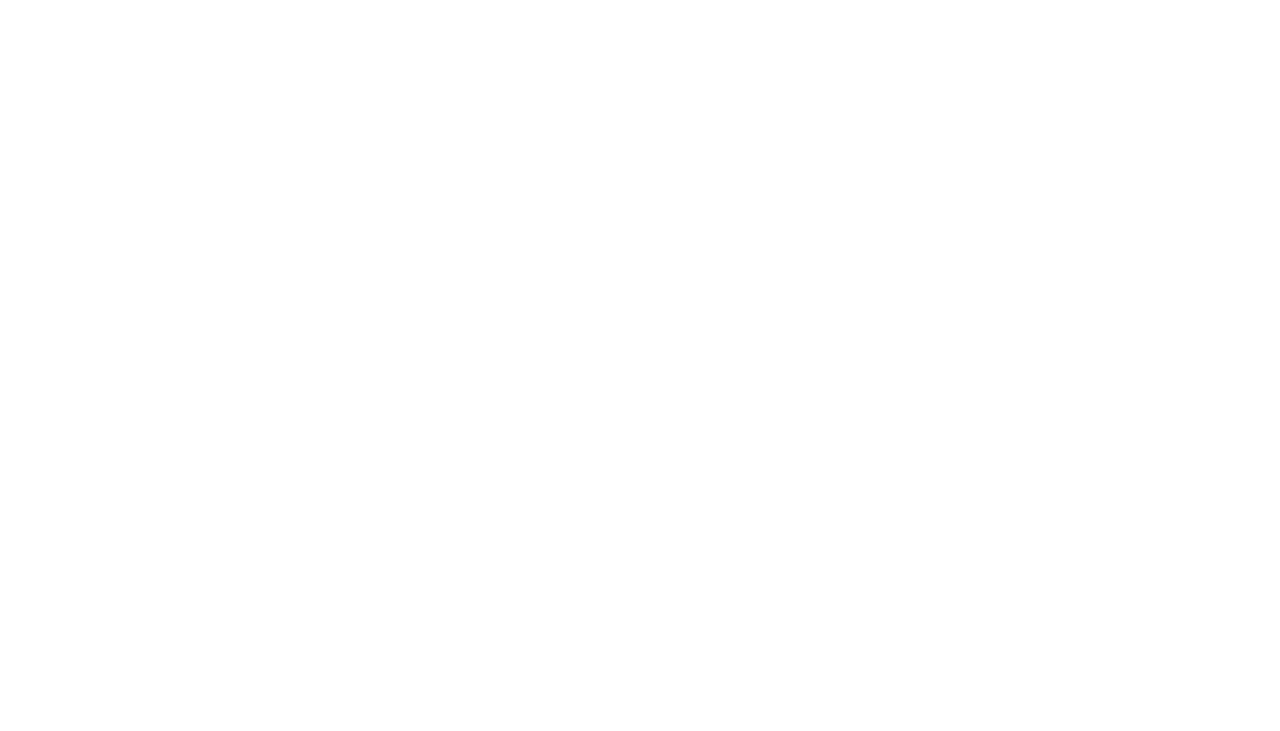
В предыдущем прогнозе отмечалось, что образование и просвещение становится инструментом политического влияния и гарантом суверенитета государства. Образование формирует национальную идентичность, готовит элиты и укрепляет интеллектуальный потенциал государства (человеческий капитал составляет до 60-70% национального богатства развитых стран), ведь государство, способное самостоятельно готовить инженеров, ученых, IT-специалистов и управленцев, менее уязвимо для внешнего давления и технологических блокад. Страны, инвестирующие в R&D через университетскую науку, демонстрируют более высокую устойчивость в периоды кризисов.
Образование исторически служит инструментом государства для консолидации общества и защиты от внешних влияний. Государственная образовательная политика определяет интерпретацию истории и повышает интеллектуальную мощь. В контексте коренных народов образовательный суверенитет подразумевает автономию в управлении программой, что способствует культурному сохранению и экономической самодостаточности, позволяет племенам интегрировать культурные элементы в образовательные программы, повышая академический успех и экономическую независимость. Примеры вроде State-Tribal Education Compact в Вашингтоне способствуют преодолению колониального опыта, по сути при этом выполняя задачи примирения внутри страны и сплочения нации для внешних вызовов.
Страны «коллективного Запада» активно адаптируют свои системы для миграции, VET (профессионального образования) и международной мобильности студентов, демонстрируя автономию в финансировании и приёме, но оставаясь под влиянием общих индикаторов. В России с отказом от Болонского процесса и международных тестов вроде IELTS, значительно способствовавших оттоку интеллектуальных сил в другие страны, во главу угла встали патриотизм и традиционные ценности. История и литература сместили акцент на события с 2014 года, русский мир и защиту от переписывания истории. "Разговоры о важном" стали обязательными, а "Основы безопасности" переименованы в "Основы защиты Родины" с элементами военной подготовки. Милитаризация через "Юнармию" (с 8 лет) и кадетские классы (160 учреждений в 2024) готовит молодежь к обороне, но, в исполнении недостаточно компетентных исполнителей, может привести к формированию «квасного патриотизма» вместо адекватного осознания роли своей Родины в историческом и мировом контексте. Образовательные траектории станут более целостными и глубокими, будучи ориентированы на конкретные нужды российской экономики (в рамках программы «Приоритет-2030»), отечественные цифровые образовательные ресурсы вроде «Сферум», «Российская электронная школа» и «Цифровой образовательный контент» формируют цифровой образовательной экосистемы.
2022 год определил вектор на обособление образования, включая формирование национальной идеологии и уход от годами формировавшегося заискивания перед международными образовательными стандартами, усилив национальную сплоченность, возможно, ценой определённых академических свобод. Следующий этап развития фокусируется на независимой системе, ориентированной на национальные ценности и подготовку кадров для инновационной экономики, без внешних зависимостей. В эпоху геополитических вызовов образование формирует коллективную идентичность, готовит кадры для экономики и политики, даёт иммунитет от культурной и идеологической экспансии, поэтому суверенитет в этой области должен опираться на свои стандарты без подстройки под внешние, к которым могут быть отнесены и международные рейтинги образования, чья непредвзятость вызывает всё больше вопросов. Стоит помнить, что рейтинги THE и QS, самые «авторитетные» рейтинги высших учебных заведений, фактически — фирмы. Сейчас, когда частный капитал встраивается и в образовательный процесс, в формирование самых податливых членов общества (что проявляется, к примеру, в растущем тренде на частные школы), такая резистентность особенно важна.
К 2030 году, усиление суверенного образования в РФ может способствовать росту патриотизма, обусловив одновременно определённые трудности научно-технического развития, когда, как в Советском Союзе, понадобится создавать всё своё, самобытное, без, или с ограниченными, возможностями интеллектуального обмена, самостоятельно проходить каждый шаг там, где можно было бы воспользоваться мировым опытом. Но разве независимость не стоит подобной цены? Интеграция ИИ и национальные платформы для цифровой безопасности повысит устойчивость к санкциям, но усилит изоляцию от глобальных инноваций. «Военные времена» сформируют поколение с ценностями, кардинально противоположными превалирующим симпатиям поколения 90-ых, с подобострастием взирающего на Запад, от чего слегка «корёжит» «западных партнёров». Последнее может проявиться в вузах, где эмиграция научного состава этого поколения (2500 в 2022–2023) и ограничение академической вольности отражают сдвиг к стабилизации мнений. Однако национальные проекты "Образование" и "Приоритет-2030" инвестируют в цифровизацию и региональные вузы, борясь с централизацией и внутренней миграцией в сторону столиц, закладывают долгосрочный фундамент роста количества интеллектуальных хабов и распределённости интеллектуального фонда.
Глобально, страны вроде РФ могут сотрудничать с Азией/Латинской Америкой, балансируя между автономностью и мобильностью (прогнозируемые 910 тыс. иностранных студентов к 2027). Риски — рост неравенства и культурных конфликтов; возможности — в интеграции традиций для устойчивого развития, на примере опыта работы с коренными народами в других странах. В итоге, суверенитет образования станет мерилом национальной устойчивости, требуя дипломатического баланса. Образование — щит суверенитета. Российский опыт иллюстрирует практическую реализацию коренной стремительной перестройки в условиях вызовов. К 2030 году успех будет зависеть от способности интегрировать национальное с глобальным, избегая ловушек беспрецедентного опыта ускоренных реформ.
Образование исторически служит инструментом государства для консолидации общества и защиты от внешних влияний. Государственная образовательная политика определяет интерпретацию истории и повышает интеллектуальную мощь. В контексте коренных народов образовательный суверенитет подразумевает автономию в управлении программой, что способствует культурному сохранению и экономической самодостаточности, позволяет племенам интегрировать культурные элементы в образовательные программы, повышая академический успех и экономическую независимость. Примеры вроде State-Tribal Education Compact в Вашингтоне способствуют преодолению колониального опыта, по сути при этом выполняя задачи примирения внутри страны и сплочения нации для внешних вызовов.
Страны «коллективного Запада» активно адаптируют свои системы для миграции, VET (профессионального образования) и международной мобильности студентов, демонстрируя автономию в финансировании и приёме, но оставаясь под влиянием общих индикаторов. В России с отказом от Болонского процесса и международных тестов вроде IELTS, значительно способствовавших оттоку интеллектуальных сил в другие страны, во главу угла встали патриотизм и традиционные ценности. История и литература сместили акцент на события с 2014 года, русский мир и защиту от переписывания истории. "Разговоры о важном" стали обязательными, а "Основы безопасности" переименованы в "Основы защиты Родины" с элементами военной подготовки. Милитаризация через "Юнармию" (с 8 лет) и кадетские классы (160 учреждений в 2024) готовит молодежь к обороне, но, в исполнении недостаточно компетентных исполнителей, может привести к формированию «квасного патриотизма» вместо адекватного осознания роли своей Родины в историческом и мировом контексте. Образовательные траектории станут более целостными и глубокими, будучи ориентированы на конкретные нужды российской экономики (в рамках программы «Приоритет-2030»), отечественные цифровые образовательные ресурсы вроде «Сферум», «Российская электронная школа» и «Цифровой образовательный контент» формируют цифровой образовательной экосистемы.
2022 год определил вектор на обособление образования, включая формирование национальной идеологии и уход от годами формировавшегося заискивания перед международными образовательными стандартами, усилив национальную сплоченность, возможно, ценой определённых академических свобод. Следующий этап развития фокусируется на независимой системе, ориентированной на национальные ценности и подготовку кадров для инновационной экономики, без внешних зависимостей. В эпоху геополитических вызовов образование формирует коллективную идентичность, готовит кадры для экономики и политики, даёт иммунитет от культурной и идеологической экспансии, поэтому суверенитет в этой области должен опираться на свои стандарты без подстройки под внешние, к которым могут быть отнесены и международные рейтинги образования, чья непредвзятость вызывает всё больше вопросов. Стоит помнить, что рейтинги THE и QS, самые «авторитетные» рейтинги высших учебных заведений, фактически — фирмы. Сейчас, когда частный капитал встраивается и в образовательный процесс, в формирование самых податливых членов общества (что проявляется, к примеру, в растущем тренде на частные школы), такая резистентность особенно важна.
К 2030 году, усиление суверенного образования в РФ может способствовать росту патриотизма, обусловив одновременно определённые трудности научно-технического развития, когда, как в Советском Союзе, понадобится создавать всё своё, самобытное, без, или с ограниченными, возможностями интеллектуального обмена, самостоятельно проходить каждый шаг там, где можно было бы воспользоваться мировым опытом. Но разве независимость не стоит подобной цены? Интеграция ИИ и национальные платформы для цифровой безопасности повысит устойчивость к санкциям, но усилит изоляцию от глобальных инноваций. «Военные времена» сформируют поколение с ценностями, кардинально противоположными превалирующим симпатиям поколения 90-ых, с подобострастием взирающего на Запад, от чего слегка «корёжит» «западных партнёров». Последнее может проявиться в вузах, где эмиграция научного состава этого поколения (2500 в 2022–2023) и ограничение академической вольности отражают сдвиг к стабилизации мнений. Однако национальные проекты "Образование" и "Приоритет-2030" инвестируют в цифровизацию и региональные вузы, борясь с централизацией и внутренней миграцией в сторону столиц, закладывают долгосрочный фундамент роста количества интеллектуальных хабов и распределённости интеллектуального фонда.
Глобально, страны вроде РФ могут сотрудничать с Азией/Латинской Америкой, балансируя между автономностью и мобильностью (прогнозируемые 910 тыс. иностранных студентов к 2027). Риски — рост неравенства и культурных конфликтов; возможности — в интеграции традиций для устойчивого развития, на примере опыта работы с коренными народами в других странах. В итоге, суверенитет образования станет мерилом национальной устойчивости, требуя дипломатического баланса. Образование — щит суверенитета. Российский опыт иллюстрирует практическую реализацию коренной стремительной перестройки в условиях вызовов. К 2030 году успех будет зависеть от способности интегрировать национальное с глобальным, избегая ловушек беспрецедентного опыта ускоренных реформ.
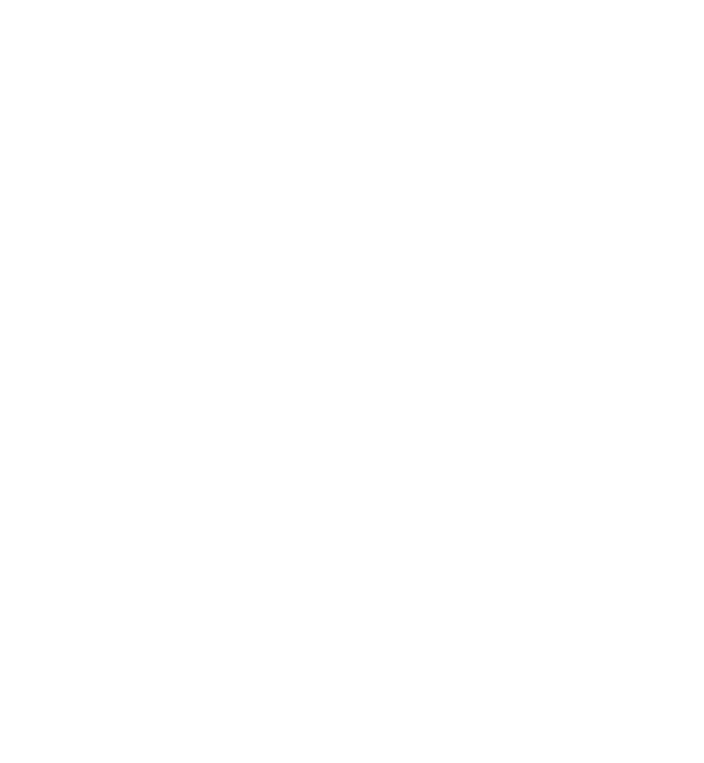
Георгий Сапожников
Эксперт в области российского и международного образования
Более 15 лет опыта в сфере образования в России и за рубежом
Профиль эксперта