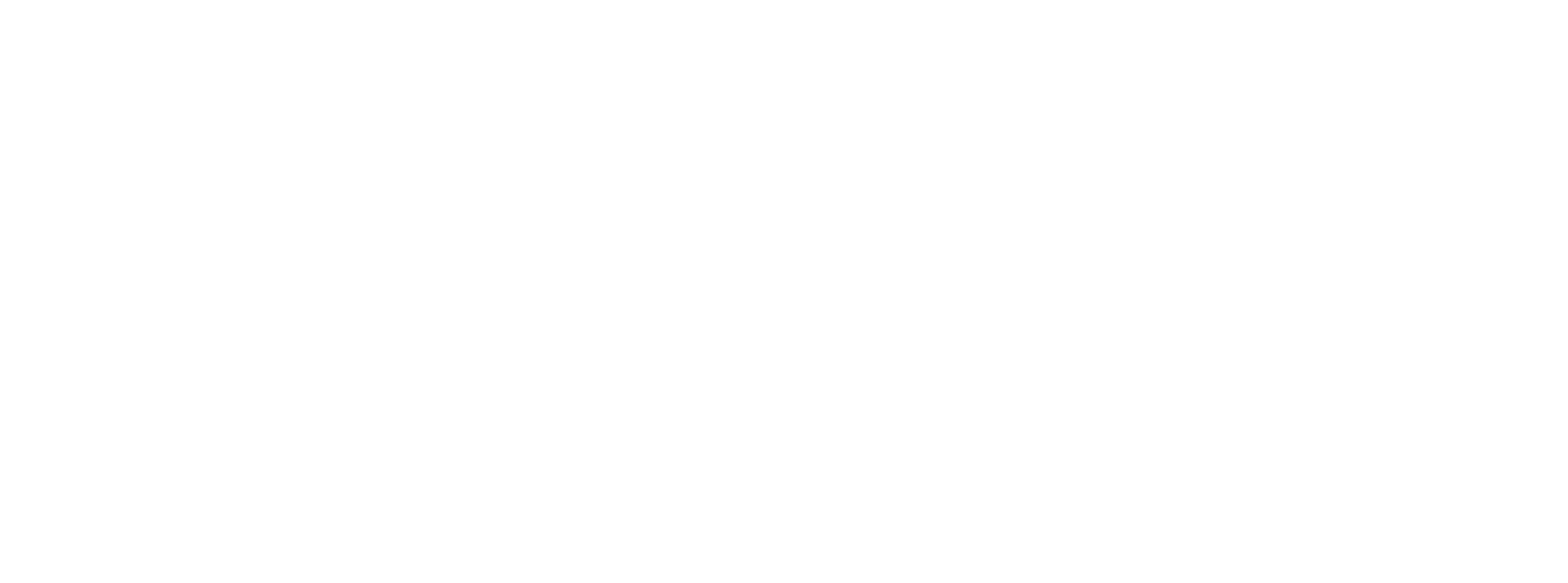Георгий Сапожников - эксперт в области образования: К 2035 году рынок экспортёров образования превысит 12 триллионов долларов
Георгий Сапожников - эксперт в области образования: К 2035 году рынок экспортёров образования превысит 12 триллионов долларов
Прогноз от 26.10.2025
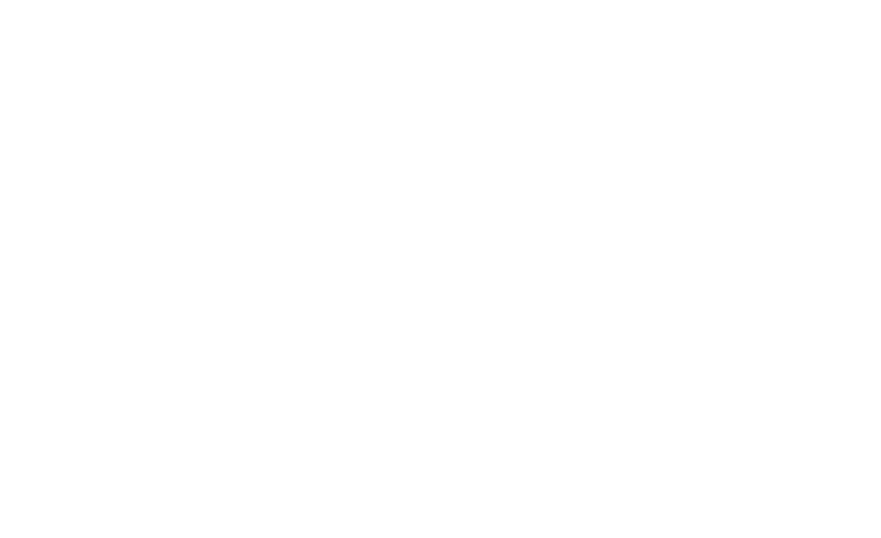
Во французской стороне,
на другой планете
Предстоит учиться мне
в университете
”Из вагантов“
Экспорт образования — один из наиболее динамичных секторов глобальной экономики. Страны и учреждения конкурируют за привлечение иностранных студентов, предлагая образовательные услуги, программы и ресурсы за рубежом. По данным аналитиков, глобальный рынок образования в 2025 году оценивается в 7,3 триллиона долларов США и прогнозируется рост до 10 триллионов долларов к 2030 году, с дальнейшим расширением к 2035 году за счет демографического роста в развивающихся странах и цифровизации. Но сухие формулировки отчёта вуалируют, что экспорт образования – не только доход, но и инструмент культурной экспансии и мягкого влияния.
Статус-кво
Не нужно далеко ходить за примерами. На сегодняшний день лидерами среди экспортёров образования являются США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия, которые привлекают более 70% международных студентов по всему миру (причём пример Германии любопытен тем, что там образования в значительной степени бесплатное, и можно предположить, что свои выгоды страна в данном случае получает иначе). Согласно исследованию Георгианы Михут, между 2018 и 2022 годами международная мобильность студентов продолжила расти несмотря на пандемию COVID-19, с преобладанием студентов из стран с высоким и средним доходом (две трети от общего числа в странах Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)). Общий объем международной студенческой мобильности превышает 6 миллионов человек ежегодно, с акцентом на высшее образование.
Экспорт образования стимулируется экономическими диспропорциями: студенты из развивающихся регионов (Азия, Африка, Латинская Америка) ищут качественное образование в развитых странах, что генерирует доходы от платы за обучение, проживания и сопутствующих услуг. Цифровизация, включая онлайн-программы, усиливает доступность, но также обостряет конкуренцию, особенно после пандемии. И в этой сфере мир образования и науки, и даже, возможно, университеты как корпорации, могут позволить себе выходить за рамки государственных интересов и политик: во времена, когда геополитические факторы (скажем, визовые реформы и партнерства), пытаются играть ключевую роль в движении студентов, онлайн образование смывает эти границы. Более того, через образование можно получить удалённые рычаги влияния на студенчество — часть населения, всегда отличавшуюся своей социальной взрывоопасностью — в совершенно другой страны. Самый свежий пример: издание Cambridge University Press обратило внимание, что значительная часть участников недавних «Протестов Поколения Z» в Непале составляли студенты.
К 2035 году
Можно ожидать, что по мере роста населения и общей тенденции к глобализации, будет расти и образовательная миграция, и к 2035 году глобальный рынок образования ожидает значительный рост, обусловленный увеличением числа студентов до 472 миллионов человек, что на 25% больше, чем в 2020-х годах. Эксперты прогнозируют удвоение международной мобильности к 2040 году, с ростом на 200% в поступивших в высшем образовании, где экспорт станет доминирующим фактором. Ключевыми драйверами станут push-факторы (экономические вызовы в странах происхождения) и pull-факторы (качество образования, работа после учебы), с фокусом на Азию и Африку как основные источники студентов.
Однако, Китай уже занял активную позицию, продвигая себя как образовательный хаб. Даже если согласиться, что разброс по качеству от заведения к заведению там всё ещё крайне огромен, и говорить об уровне китайского образовании в среднем — это всё равно, что оценивать среднюю температуру по больнице, обилие стипендий, выделяемых правительством для иностранных студентов, для программы высшего образования, пост-дипломного образования, и языковых программ, подчёркивает мировой масштаб их амбиций, и студенты со всего мира уже создают яростную конкуренцию за эти места. Можно ожидать, что Индия, во много перенимающая опыт Китая, будет стремиться к тому же, конечно, со своей спецификой. Но геополитическая нестабильность и климатические изменения могут замедлить рост даже в условиях всё большего перехода из оффлайна в онлайн.
Возможные сценарии для Российской Федерации
У Российской Федерации довольно специфическое положение: она и поставляет значительный поток студентов в другие страны, который за последние годы слегка усилился, поскольку гражданам стало проще поступить за границу, и импортирует — и этот поток за последние годы тоже прирос за счёт студентов из Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, где российское образование котируется больше, чем на западе. Российская Федерация позиционирует себя как экспортёра образования с 2017 года (хотя является им значительно давнее), запустив проект "Экспорт образования", целью которого поставлено привлечение 710 тысяч иностранных студентов к 2025 году и дальнейшее расширение до 3,5 миллионов в онлайн-формате. Программа "Приоритет 2030" предусматривает создание более 100 центров образования при вузах к 2030 году, фокусируясь на научных и технологических центрах для интернационализации. При этом, в Россию едут не только за высшим, но даже и за средним специальным образованием. Интернационализация в России сочетает политические, административные и рыночные логики, с акцентом на регионы, такие как Дальний Восток для партнёрств с Азией. Помимо прямой финансовой выгоды, для России важно признание качества её образования на международном уровне: несмотря на высокий уровень образования, предоставляемый университетами, позиции их в международных рейтингах остаются незаслуженно низкими.
Исходя из оптимизма, предполагает в результате укрепления партнёрств с Китаем, Индией, Африкой и странами БРИКС (как в проекте экспорта в Китай), число иностранных студентов может превысить 1 миллион, с доходами от экспорта свыше 5 миллиардов долларов ежегодно. Цифровизация и "пакеты" для студентов (визы, страховка, жилье) усилят привлекательность, особенно в STEM-дисциплинах. Интернационализация через филиалы университетов и онлайн-платформы позволит России занять нишу в "Глобальном Юге", как отмечается в исследованиях о постпандемийных трендах. Более того, Россия может выиграть вдвойне, поскольку большой процент этих обученных кадров останется работать на её благо: недавние новости дают понять, что ситуация с безработицей в Китае, Индии и т. д. накаляется год от года (например, в Индии самый высокий процент безработных инженеров с высшим образованием в мире). В то же время, описанное выше скептическое отношение к российскому образованию на западе, и отмена болонского процесса, может обернуться своего рода преимуществом, и предотвратить миграцию этих вчерашних студентов далее на запад, и утолить кадровый голод в сфере технических кадров, сформировавшийся в последние годы.
Базовый сценарий:
Стабильный рост до 800-900 тысяч студентов, с фокусом на традиционные рынки (СНГ, Азия). Геополитические вызовы, такие как санкции, ограничат западные потоки, но партнерства в рамках "Один пояс, один путь" компенсируют это. Доходы от экспорта достигнут 3-4 миллиардов долларов, с акцентом на региональные вузы, что поможет таким вузам в свою очередь подтянуть своё благосостояние, и вслед за тем престижность и качество образования.
Впрочем, не стоит забывать, что из-за эскалации геополитических напряжений мобильность может сократиться на 30-50%, с потерей доверия на глобальном рынке. Число студентов стабилизируется на уровне 500 тысяч, преимущественно из "дружественных" стран, с фокусом на внутренний рынок и ограниченным экспортом.
К 2035 году рынок экспортёров образования может с лёгкостью превысить 12 триллионов долларов. Для России реалистичный сценарий предполагает умеренный рост через региональные партнерства, но требует преодоления геополитических барьеров. За счёт глобальных сдвигов Россия приобрела беспрецедентные возможности, и важно приложить максимум усилий, чтобы получить от них всё, как на государственном уровне, так и на уровне каждого в отдельности.
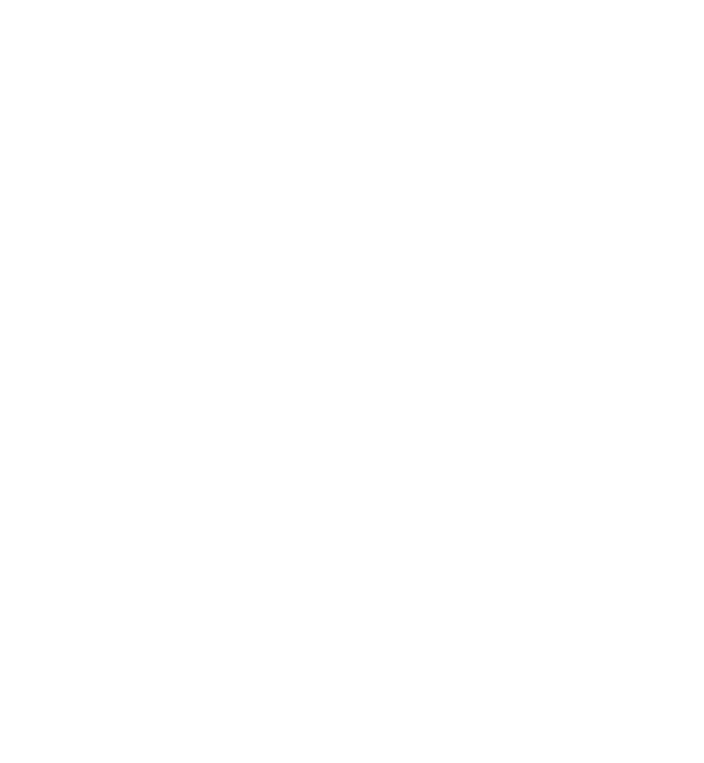
Георгий Сапожников
Эксперт в области российского и международного образования
Более 15 лет опыта в сфере образования в России и за рубежом
Профиль эксперта